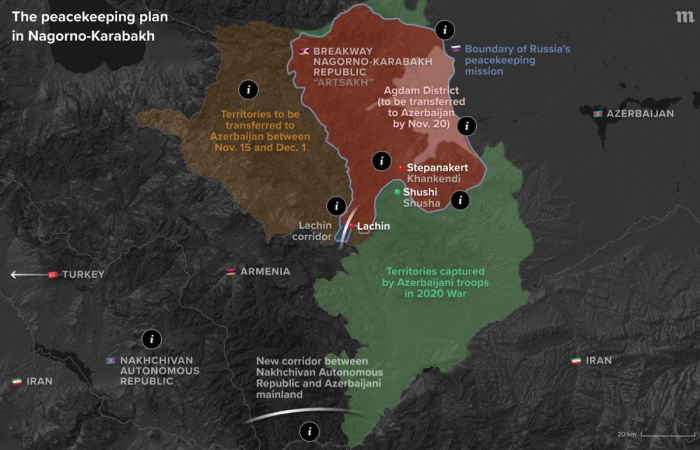Появление в последнее время большого числа статей и публикаций, позволяют говорить об отходе Турции от внешнеполитической доктрины «ноль проблем с соседями», ставившей цель добиться добрососедских или нейтральных отношений со всеми соседями. Успешное применение доктрины Давутоглу позволило сделать более благоприятной среду безопасности, что стало одним из факторов, позволивших Турции совершить рывок в экономическом развитии.
Однако среда безопасности того или иного государства не может рассматриваться в отрыве от международной системы безопасности. Арабская весна, радикально меняющая политический ландшафт на Ближнем Востоке, не могла не отразиться и на внешнеполитической активности Турции. Элита турецкого государства осознала, что в изменяющемся региональном климате доктрина Давутоглу становится неадекватной и должна быть пересмотрена. Однако в отличии от спокойных нулевых шансы на то, что новая доктрина будет сформулирована и опубликована, достаточно мало. О новой стратегии турецкого государства придется судить по конкретным шагам и действиям на внешнеполитической арене, а не теоретическому документу.
Метод разработки концептуального документа, доктрины, хорош и оправдан, когда вы обладаете достаточным временем для этого. Доктрина это своего рода «грамматика» языка, на котором изъясняется та или иная сфера государственной деятельности. В условиях нарастающей эскалации в регионе военно-политическая элита государства обязана перейти к «ad-hoc» стратегии и тактике, когда доктрина не столько формулируется и оформляется, сколько непосредственно реализуется, будучи обсужденной в кругах высшего военно-политического руководства страны, а предпринимаемые шаги диктуются внешнеполитическим контекстом логикой процессов, протекающих в среде безопасности.
Отсутствие возможности опереться на грамматику затрудняет для внешнего наблюдателя анализ и тем более прогнозирование внешнеполитической активности государства и требует пристального внимания с целью «схватить» и понять логику наблюдаемых шагов. Поведение Турции вокруг Ливии, а теперь и Сирии, позволяет говорить об отказе от кемалистского подхода к внешней политике. Дискуссии о намерениях Турции отказаться от изоляционистской, сосредоточенной исключительно на территории Турции, политики и стратегии и перейти к проецированию мощи во вне ведутся давно. При этом говорится о неосманизме или неопантюркизме, как возможных идеологиях турецкого государства в 21 веке. Однако если ранее речь шла о теоретических дискуссиях и закрытых шагах на экономической или политической аренах, в случае Сирии можно говорить о практически открытом намерении применить военную мощь.
Турция и ранее применяла военную силу за пределами государства. Можно вспомнить Северный Кипр или военные операции в Курдистане, однако речь в данном случае шла о «привычных» действиях Турции не приводящих к изменению регионального контекста. Международное сообщество «понимало» и «принимало», что у Турции имеется кипрская и курдская проблемы, и она «имеет право» реагировать на них, в том числе и военными методами. Ситуация вокруг Сирии несколько иная, поскольку вмешательство Турции в гражданскую войну явно изменяет региональный контекст и демонстрирует готовность турецкого государства проецировать военно-политическую мощь, как минимум, на Ближний Восток, вынуждая государства региона, региональные и геополитические центры силы делать соответствующие выводы.
Для Армении и Кавказа в целом в происходящих изменениях представляются важными следующие моменты. Во-первых, времена «миролюбивой Турции», которая намерена добиваться мира с соседями и в регионе уходят в прошлое. Турецкая государственность возвращает себе традиционный имидж наследницы Османской империи, которая умеет и желает действовать военным инструментом для защиты своих интересов. Времена, когда Турция говорила и оперировала мягкой (soft) или умной (smart) мощью уступают новым, в которых турецкое государство, судя по всему, выбирает принуждающую (coersive) мощь. Во-вторых, в новых условиях говорить о сохранении существующих сфер влияния геополитических и региональных центров силы, становится некорректным. В-третьих, процессы, протекающие на Ближнем Востоке, неизбежно затронут Армению и черноморско-кавказский регион. Времена, когда Кавказ и тем более Южный Кавказ представляли собой отдельный регион со своей архитектурой системы региональной безопасности, балансом сил и интересов, подходят к концу. Жаркие ветры арабских пустынь в очередной раз в истории готовы изменить ландшафт и среду безопасности региона, вне зависимости от воли и желаний центров силы.
К сожалению на сегодняшний день можно говорить о неготовности Армении и Кавказа к происходящим изменениям. В условиях растворения или разрушения перегородок, разделяющих Южный Кавказ, Кавказ и Ближний Восток рассуждать и тем более пытаться искать решение старых региональных проблем, таких как арцахская, становится неадекватной и лишенной логики активностью. В формируемой на наших глазах среде безопасности армянской государственности и Кавказу в целом необходимо готовиться к другим вызовам и угрозам, в том числе и к таким угрожающим сценариям, когда турецкое государство проецирует военно-политическую мощь на север. И если в 90-е годы Турция в силу инерции, безусловного доминирования России на постсоветском пространстве и других факторов не рискнула открыто вмешаться в арцахскую войну, ограничившись блокадой Республики Армения, сегодня способность России играть роль сдерживающего фактора для такой политики требует внимательной оценки.
В условиях, когда на дуге нестабильности, как в плавильном котле, растворяются государства и нации, не обладающие сильной национальной идентичностью и государственностью, армянской государственности надо как можно быстрее избавляться от иллюзий «изоляции» и «изолированности» - арцахской проблемы, Армянского вопроса, Армении, Кавказа от мировых процессов. В новых условиях государственность, опирающаяся только жесткую вертикаль власти, но не гражданский и общественный консенсус становится уязвимой, в этом один из уроков падения автократических режимов арабских стран, погрузивший страны в хаос и гражданскую войну.
В новых условиях народы и государства Кавказа - признанные и непризнанные - должны оторвать пристальный взгляд друг на друга и оглянуться на стремительно изменяющийся мир, в котором становятся неактуальными старые угрозы и обиды. В условиях надвигающейся нестабильности у народов Кавказа пока что есть шанс договориться и «заморозить» старые проблемы, отложив их на будущее. В состоянии ли Армения и другие государства и народы региона к таком взгляду на кавказское будущее? Скорее нет, чем да, и ответ в данном случае важен для самого Кавказа, но не разворачивающихся процессов.
И если Кавказ в целом пока не готов и не созрел для нового взгляда на свое место в мире, опыт национальной катастрофы 20 века (Мец Егерна) армянского народа требует действий. Армянский мир (Ашхар), как глобальное явление 21 века, обладает опытом поведения на грани жизни и смерти, который обязывает оставаться в реальности. Армянская государственность должна быть готова ко всем сценариям, прикладывая усилия для разворачивания наиболее привлекательного как для себя, так и Кавказа в целом, став локомотивом интеграционных процессов на Кавказе.
Рачья Арзуманян
7 декабря 2011г.