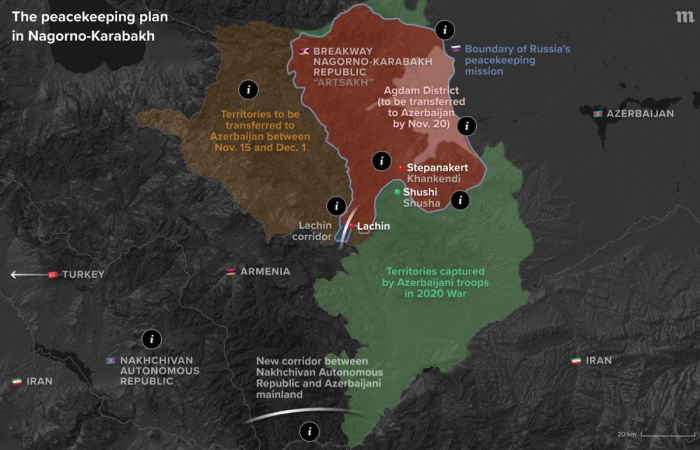Рокировка в тандеме Путин - Медведев, случившаяся на сентябрьском съезде партии «Единая Россия», мгновенно стала главным вопросом российской внутриполитической повестки дня. Между тем, сам масштаб России и степень ее влияния на мировой политику автоматически переводит данную проблему в разряд международных.
Особый интерес к ситуации внутри РФ по понятным причинам проявляют ее соседи, в первую очередь страны Южного Кавказа. И такой интерес вполне понятен. Во-первых, одна из трех закавказских республик Грузия- не просто сосед России. Это- страна, с которой совсем недавно имел место военный конфликт. С точки зрения грузинских политиков (и тех, кто поддерживает власть, и оппозиционеров) именно Москва виновна в двух этнополитических противоборствах на ее территории и несет ответственность за де-факто сецессию Абхазии и Южной Осетии. В рамках данной статьи мы не будем спорить с подобной аргументацией. Мы лишь зафиксируем сам факт восприятия России и ее политики властной элитой и общественным сознанием. Во-вторых, именно Россия, признав независимость Абхазии и Южной Осетии создала важный прецедент пересмотра границ между бывшими союзными республиками. Этот рискованный и неоднозначный шаг породил с одной стороны, большие надежды, а с другой неменьшие фобии. Во-третьих, та же Грузия и Азербайджан граничат не просто с РФ, но с республиками Северного Кавказа, то есть с самым «горячим» российским регионом. И северокавказский пожар уже не раз за 20 лет после распада СССР переносился на грузинскую и азербайджанскую территорию. Достаточно сказать, что на картах известной террористической организации «Эмират Кавказ» отмечен «азербайджанский джамаат дагестанского вилайята». В-четвертых, на Южном Кавказе находится один из немногих на постсоветстком пространстве стратегических союзников Москвы- Армения. На ее территории располагается военная база (Гюмри), а также сохраняется присутствие российских пограничников. Армения не имеет при этом прямой границы с Россией, а ее экономическое развитие и безопасность не в последнюю очередь зависят от динамики российско-грузинских отношений. В-пятых, Москва является одним из посредников в разрешении нагорно-карабахского конфликта. И свои взоры на ее политику обращают с надеждой и Ереван, и Баку. И многие в Армении и в Азербайджане убеждены (правильно или нет- другой вопрос) в том, что ключи от мира находятся имено в Москве. В-шестых, постсоветская политика чрезвычайно персонифицирована. И даже если Владимир Путин, Ильхам Алиев, Серж Саркисян или Михаил Саакашвили действуют в той или иной ситуации, сообразуясь с обстоятельствами, а не в силу каких-то волюнтаристских установок, личностный фактор в их восприятии остается чрезвычайно важным. Вспомним хотя бы сколько дискуссий об августовской войне 2008 года поднимали проблему жесткой риторики Путина или Медведева.
В этой связи интерес к возвращению действующего премьер- министра РФ в президентское кресло возрастает даже вне зависимости от реальных фактов и раскладов. Тем паче, что и сам Владимир Владимирович дает повод для поддержания внимания к своей персоне. В начале октября он опубликовал программный текст, посвященный интеграционной политике России на постсоветском пространстве в газете «Известия». Многие обозреватели уже увидели в статье Путина стремление если и не возродить Советский Союз в его прежнем обличии, то, как минимум, замахнуться на социально-экономическое и политическое доминирование в Евразии.
Насколько же опасным или, напротив, благожелательным может оказаться перемещение Путина из премьерского кресла на президентский пост? Думается, что сам дискурс «возвращения», ставший весьма популярным в западных СМИ в последние недели, нуждается в существенной корректировке. Хотя бы потому, что после 2008 года Владимир Путин из управленческой системы никуда не уходил (как это делали Левон Тер-Петросян или Роберт Кочарян). Оставаясь премьер-министром, именно он был ключевой фигурой в принятии внутренних и внешнеполитических решений. И делать вид, что действительным лидером России последних трех лет был президент Дмитрий Медведев, значит серьезно искажать ситуацию. Да, в 2008-2011 гг. Путин уступил Медведеву «риторическое поле», предоставив возможность для продвижения некоторых инновационных дискурсов («модернизация» внутри страны, новая архитектура европейской безопасности и договор, фиксирующий ее основные положения во внешней политике). Но ведь риторика не может на 100% отождествляться с политикой! Второе не менее важное соображение, позволяющее прагматизировать восприятие Путина, касается контекстов, в которых этот политик действовал и как президент, и как премьер-министр. Да, спору нет, именно он ответственен за превращение США и Запада в инструмент внутриполитической мобилизации и пиара. На нем лежит вина за излишнюю эмоциональность в выстраивании «кавказского вектора» российской внешней политики. В данном случае мы говорим не только о самих странах региона, но и о политике в отношении к Вашингтону и Брюсселю. Путин пропустил много возможностей для компромиссов. Но превращать его на этом основании в архитектора «новой холодной войны» вряд ли целесообразно с политической и корректно с экспертной точки зрения. Путин реагировал и на действия самих кавказских лидеров, желавших скорейшей «разморозки» конфликтов без всякого учета роли и интересов России. Западные лидеры (и в особенности США) игнорировали связь проблем северокавказской безопасности и ситуации на Южном Кавказе, раздавали необоснованные авансы тому же Михаилу Саакашвили, создавали в нем уверенность, что с позицией Москвы можно не считаться. Не будем забывать, что геополитика Кавказа формировалась и формируется с учетом «фоновых факторов», влияющих на регион лишь опосредованно. Так провал «плана Дмитрия Козака» по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта (2003) при решающей роли американской дипломатии сыграл крайне негативную роль в дальнейшем позиционировании путинской внешней политики. Именно этот провал, а не последовавшая за ним серия «цветных революций» настроил Путина на жесткость и непримиримость по отношению к США, ЕС и НАТО. История не знает сослагательного наклонения, но пойди днестровское урегулирование иным путем, возможно, сегодня, в 2011 году соседи России не впадали бы в алармизм по поводу «возвращения» Путина. Запад слишком перестарался в своих фобиях относительно возрождения СССР в то время, как для реализации такого проекта нет самого главного- коммунистической идеологии, которая в течение 70 лет скрепляла воедино бывшие части разрушенной в 1917-1918 гг. Российской империи.
Не стоит забывать, что кавказская политика Медведева ничем принципиальным не отличалась от того курса, который Россия проводила в 2000-2008 гг.Москва традиционно стремилась удерживать статус-кво там, где это было только возможно. Даже признание независимости Косово в феврале 2008 года не заставило Кремль сделать «ответный шаг». Признание Абхазии и Южной Осетии стало возможным только после грузинской атаки Цхинвали, котору, не исключено, в Москве ожидали. Но сам факт остается фактом. После 26 августа 2008 года Россия не пошла путем тотального ревизионизма. И казус с признанием не повторился ни в Нагорном Карабахе, ни в Приднестровье. Весьма популярный в ходе «пятидневной войны» вопрос «кто следующий?» так и повис в воздухе. Москва выбрала для себя «избирательный ревизионизм». И на этом пути в 2008-2011 гг. она весьма преуспела, выстраивая параллельные отношения с Армений и с Азербайджаном. Кстати сказать, большую роль в продвижении такой политики сыграл именно Путин, который своим визитом в Баку в 2001 году закрыл очень сложную страницу предыдущих российско-азербайджанских отношений. Напомню, что в 1990-е годы отношения Москвы и Баку весьма страдали от личностного фактора (неприязнь между Борисом Ельциным и Гейдаром Алиевым). В 2000-е гг. Россия показала, что союзничество с Арменией не предполагает отказа от партнерских отношений с Азербайджаном. И вряд ли есть основания считать, что в 2012 году от этого курса Россия откажется. Как и нет серьезных оснований видеть в «возвращении Путина» угрозу для Грузии. Все свои задачи на этом направлении Москва решила, исключив угрозу силового поглощения Абхазии и Южной Осетии. Хотя и создала при этом рискованный политико-правовой прецедент.
Российские риски в связи с рокировкой внутри «тандема» кроются не в Закавказье. И не на постсоветском пространстве в целом. Даже если мы представим себе, что завтра в России сменится власть, то ожидать того, что Москва откажется от своих насущных национальных интересов не следует. Любой другой лидер России будет жестко их отстаивать.В чем же тогда риски и потенциальные угрозы? Они в том, что система Путина внутри страны ориентирована не на развитие, а на «стабильность», то есть на воспроизводство «административного рынка» - власти государственной бюрократии и связанного с ней крупного капитала. «Административному рынку» не нужна конкуренция ни в экономике, ни в политике. Отсюда и возможность нового «застоя» (не зря ведь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрия Песков назвал 18 лет правления Леонида Брежнева «огромным плюсом для страны»). Но любой «застой» ведет не просто к стагнации. Он чреват управленческой неадвекватностью, утратой обратной связи с обществом. И в конечном итоге, он провоцирует неконструктивные сценарии общественного развития. Именно этого следует опасаться не только россиянам, но и соседям РФ. Однако при любом сценарии развития событий объективные геополитические интересы России (не зависящие от фамилии ее лидера) должны учитываться ее партнерами, иначе запрос на антизападную риторику будет сохраняться. С Путиным или без него.
Автор - Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, США, Вашингтон