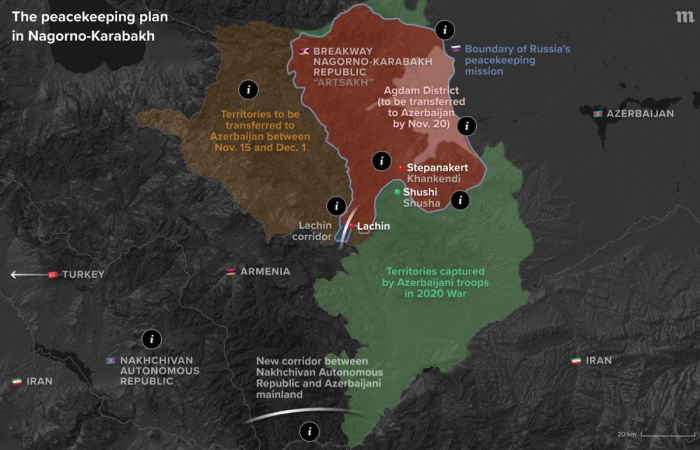Июнь 2012 года выдался в Нагорном Карабахе жарким. Количество военных инцидентов в начале месяца резко возросло. Министерства обороны Азербайджана и Армении обвинили противоположную сторону в организации диверсионной активности. Остроты ситуации добавлял тот факт, что военные столкновения происходили практически одновременно с кавказским турне госсекретаря США Хилари Клинтон. Сообщения об инцидентах застали ее в Ереване. «Силой этот конфликт не решить. Проблема должна быть решена исключительно за столом переговоров»,- дала свою оценку руководитель американской внешней политики. В отличие от Грузии нагорно-карабахский конфликт является площадкой для миротворческой кооперации России и Запада (в лице Франции и США). Однако интернационализация мирного процесса и отсутствие геополитической конкуренции (как минимум в открытой форме) не спасают от нарушений режима прекращения огня. Насколько опасно сползание ситуации к новой войне?
Ответ на этот вопрос хотелось бы начать с того, что «горячая точка» в Нагорном Карабахе резко выделяется среди других конфликтов на территории бывшего Советского Союза. Нагорно-карабахский конфликт был самым интенсивным из вооруженных противостояний на постсоветском Кавказе (начавшись в 1988 году как межреспубликанский, в 1991 году он перерос в межгосударственный конфликт и продолжался еще три года). Именно в Карабахе зафиксировано наибольшее количество жертв, беженцев и временно перемещенных лиц по сравнению с Абхазией, Южной Осетией или Приднестровьем. В Карабахе не осуществляется миротворческая операция по разведению конфликтующих сторон (все держится на Соглашении о прекращении огня, подписанном в мае 1994 года), а сами стороны разделяет «линия фронта». Единственной посреднической силой здесь является Минская группа, о неэффективности которой уже слагаются легенды. Самым эффективным миротворческим достижением за все эти годы является упомянутое нами майское соглашение от 1994 года.
Стороны регулярно испытывают друг друга на прочность, и только региональная гонка обычных вооружений (пока, слава Богу, не ядерных) является в определенной мере стабилизирующим фактором. Большой войны боятся обе стороны. Это не только боязнь человеческих потерь, но и падение имиджа власти, легитимность которой во многом держится на карабахском факторе. В этой связи обострение ситуации здесь может повлечь гораздо более серьезные последствия и для всего Южного Кавказа, и для СНГ в целом. Однако июньская «военная тревога» в Карабахе является, по сути, всего лишь продолжением начавшейся несколько лет назад тенденции. Ее можно определить как «разморозку» этнополитических конфликтов. Эта «разморозка» привела в итоге к признанию независимости Абхазии и Южной Осетии, а также к формированию нового статус-кво на Большом Кавказе.
Казалось бы, в отличие от конфликтов в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье или на Балканах нагорно-карабахское противостояние стало той точкой, где позиции России и США за все годы, начиная с майского соглашения о бессрочном прекращении огня 1994 года, не слишком серьезно расходились. Обе стороны (каждая по своему) были заинтересованы в сохранении статус-кво и предотвращении «разморозки» конфликта. И сегодня Москва и Вашингтон не хотели бы повышать «ставки в игре» на карабахском направлении. Москве вполне хватает проблем в других точках Большого Кавказа, а США увязли в решении проблем Большого Ближнего Востока (от Ирана, Ирака и Афганистана до Турции и Палестины с Израилем). Однако стороны конфликта хотели бы сделать и Россию, и Запад сторонниками «своей правды». Как это сделать? Этого легче всего добиться напоминаниями о себя. Не только посредством использования военной риторики (которая уже всем хорошо знакома и успела порядком надоесть), но и военными демонстрациями, которые уже выходят за грань фола. Следовательно, в политической тактике Баку переговоры (а очередной их раунд пройдет 18 июня в Париже, там встретятся главы МИД Армении и Азербайджана) будут перемежаться не только жесткими воинственными заявлениями, но теперь уже и использованием прямой силы.
Наверное, сами по себе демонстрации силы не могут привести к новой войне. Но более частое использование этого инструмента делает политику заложницей не президентской, а сержантской воли. Это только в схемах военные операции выглядят логичными и до конца выверенными. В реальности же на «линии фронта» слишком многое решают эмоции и нерациональные поступки. Полагаться только на них - значит слишком многое ставить на кон. Впрочем, дело мира в Карабахе не безнадежное. Оно зависит от умения Вашингтона и Москвы выработать совместную жесткую линию по вопросу о недопущении военных действий. Если такой недвусмысленный без всяких политически корректных оговорок сигнал будет дан из двух столиц одновременно, шансы на то, что статус-кво может быть сохранен, повышаются. «Разморозка» по-тбилисски, напомню, произошла из-за того, что РФ и США втянулись в навязанную Грузией посредническую войну («proxy war»). Надежд на такую согласованность маловато. Однако, они, как известно, умирают последними. К сожалению, параллельно с их затуханием гибнут участники застарелого и неразрешенного поныне конфликта.
Автор - Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, программа «Россия и Евразия», Вашингтон, США