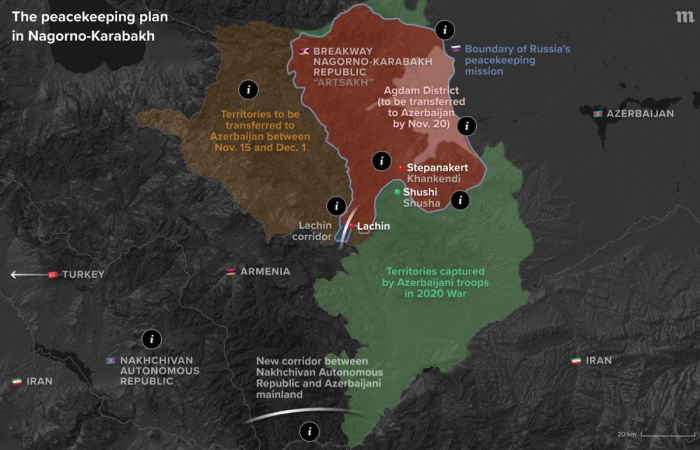Начало апреля стало для российского министерства иностранных дел периодом повышенной активности на кавказском направлении. За три дня - два официальных визита Сергея Лаврова в Ереван и в Баку. Формальный повод для визитов имеет символическое значение. Двадцать лет назад постсоветская Россия установила дипломатические отношения с Арменией и Азербайджаном, которые в процессе распада СССР обрели национальную независимость. И сегодня, спустя двадцать лет, мало кто из стран бывшего Союза может похвастаться столь интенсивным диалогом с Москвой, который ведут армянские и азербайджанские дипломаты. Только в прошлом году главы МИД трех стран провели 10 раундов переговоров. В январе 2012 года через полгода после казанского саммита (на который возлагались слишком необоснованные надежды, и как результат, большие разочарования) в Сочи прошла встреча в уже привычном трехстороннем президентском формате. В 2012 году Россия и Азербайджан должны решить вопрос об эксплуатации Габалинской РЛС. Не снят из повестки дня двух стран и вопрос о статусе Каспия и энергетических проектов вокруг самого крупного в мире озера. Армения и Россия стремительно развивают экономические отношения. И Москва хотела бы от Еревана большей активности в реализации интеграционных евразийских проектов, которые, похоже, стали важной составной частью внешней политики «нового старого» президента РФ.
Однако остроты ситуации добавляет тот факт, что две страны, о которых идет речь, разделяет неразрешенный этнополитический конфликт. Армения и Азербайджан не имеют дипломатических отношений, общаясь друг с другом только через посредников. И в столицах обеих стран, чего греха таить, ждут от Москвы выбора в свою пользу. И в Ереване, и в Баку любят говорить о том, что ключи к миру в Нагорном Карабахе находятся в Кремле. Эту точку зрения готовы разделить и соседние страны (Грузия, Турция). Но каковы на самом деле ресурсы и возможности России в разрешении многолетнего армяно-азербайджанского спора?
Для ответа на этот вопрос необходимо «отмотать» часы на август 2008 года. После «пятидневной войны» Россия и Грузия разошлись по разные стороны баррикад. Можно, конечно, говорить о том, что в условиях XXI века полная изоляция двух стран друг от друга невозможна (и главное, нереальна), о чем неопровержимо свидетельствуют и Женевские переговоры, и экономическое сотрудничество между двумя странами, развивающееся поверх разрушенных дипломатических отношений, и история вступления РФ в ВТО. Но факт остается фактом. 26 августа 2008 года, признав Абхазию и Южную Осетию, Москва сделала свой выбор относительно перспектив отношений с Грузией. Тут, однако, есть и свои нюансы. Тбилиси сделал свой выбор за 4 года до того, начав «разморозку конфликтов». Как бы то ни было, а серьезных рычагов влияния на Грузию у Москвы нет. И не предвидится в ближайшем будущем. В военном плане российский потенциал превышает грузинский многократно, однако такой цели, как уничтожение грузинской «суверенной демократии» перед Москвой не стоит. Да и реализация этой идеи натолкнется на более серьезное сопротивление ключевых мировых игроков. В то же самое время сохранение влияния на Южном Кавказе для РФ чрезвычайно важно, учитывая многосторонние связи этой части региона с Северным Кавказом и многослойные интересы Москвы на Ближнем Востоке, то есть в регионе, значение которого для Евразии выросло в последние два года в разы. Отсюда, и то повышенное внимание к контактам с Ереваном и Баку. Потеря одного из этих партнеров для России будет иметь серьезные последствия, так как в этом случае из трех признанных мировым сообществом образований два будут проводить антироссийский (как минимум, не слишком доброжелательный) курс. Но загвоздка в том, что оба потенциальных партнера России на Кавказе находятся в конфронтационных отношениях друг с другом. Нагорный Карабах, если использовать образы из ближневосточной истории, это - не «территории», и не «сектора». Это - Иерусалим. И конфликтующие стороны ведут не только гонку региональных вооружений и информационную войну, но и неистовую борьбу за внешнюю поддержку. Таким образом, перед российской дипломатией встает непростая задача - не дать себя втянуть в эту гонку и не превратиться в объект этого противоборства. А то, что сильные державы нередко становятся теми собаками, которыми виляет хвост, мы видели в случае России с Чечней, Абхазией и с Южной Осетией, а также в истории американо-грузинских отношений или отношений Вашингтона и Приштины. Новый кавказский цикл визитов Сергея Лаврова показывает, что пока Москве эту диалектическую задачу удается решать. Хотя решение это с каждым разом все сложнее дается. Вот и на этот раз министр иностранных дел России был вынужден из Еревана жестко «пройтись» по энергетическим планам ЕС на Каспии. «Решения, принимаемые без учета мнений всех пяти прикаспийских государств о том, как использовать Каспийское море, да еще и с участием Евросоюза, который далеко расположен от этих мест, неприемлемы», - заявил российский министр. При этом стоит отметить, что практически синхронно с ереванской частью кавказского турне Лаврова Азербайджан поддержал идею строительства Транскаспийского газопровода. По словам министра промышленности и энергетики прикаспийской республики Натика Алиева, это - «крупный проект, и Азербайджан заинтересован в его реализации». Вторым важным «сигналом» Лаврова из столицы Армении стало подтверждение приверженности «Обновленных Мадридских принципов» (следовательно, был сделан намек на то, что силовое решение или попытки раскачать статус-кво для Москвы неприемлемы).
Однако все это не означает, что Москва не заинтересована в сохранении позитивной динамики с Азербайджаном. Неслучайно в этой связи, что проводя назначения специальных представителей в непризнанных республиках, Кремль не принял кадрового решения по НКР. Можно, конечно сказать, что Абхазия и Южная Осетия уже получили свое признание. Но ведь Приднестровье его до сих пор не получила, и вряд ли получит в дальнейшем, несмотря на назначение спецпредставителем по ПМР экстравагантного Дмитрия Рогозина. Таким образом, Москва не хочет раздражать лишний раз Баку. Тем паче, что вопрос о Габале еще не получил своего разрешения. Впрочем, хорошим фоном для российско-азербайджанской динамики является разрешение пограничных споров, принципиально достигнутое в сентябре 2010 года.
Таким образом, Москва будет пытаться проводить свою прежнюю политику осторожного балансирования. При этом и Ереван и Баку будут пытаться изменить позицию Кремля в свою пользу. И оживления «патриотической риторики» мы можем ожидать уже в скором будущем. Армения вступает в избирательный цикл (в мае 2012 года пройдут парламентские выборы, а 2013 году - президентские). В будущем году будут избирать президента и в Азербайджане, в первый раз в соответствие с конституционными поправками, снимающими ограничения по количеству легислатур для одного человека. Все эти процессы будут сопровождаться и апелляцией к главному национальному символу двух стран - Карабаху. И Москве будет очень непросто удержаться в принятых рамках. Притом, что реальной альтернативы такой политике нет. Речь, конечно же, об эффективной политике, ориентированной на сохранение позиций на Южном Кавказе.
Автор - Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник (Visiting Fellow) Центра стратегических и международных исследований, США, Вашингтон