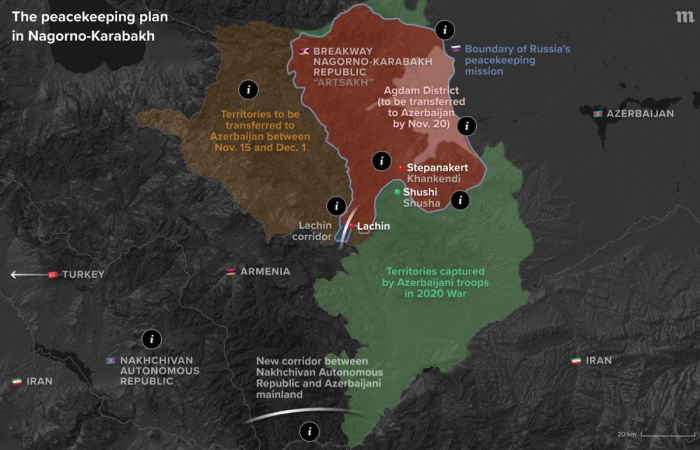Скандал вокруг экстрадиции и освобождения азербайджанского офицера Рамиля Сафарова вновь сделал нагорно-карабахский конфликт горячей темой для обсуждения. Пересказывать все перепитеи вокруг решения венгерского правительства и указа президента Азербайджана, освободишего от угловной ответственности убийцу, вряд ли имеет смысл. СМИ в двух кавказских странах, Европе, России и США полны информацией об этих событиях. Намного важнее понять, к каким подвижкам может привести «дело Сафарова»? И какие уроки из него следует извлечь политикам и экспертам?
Во-первых, история Рамиля Сафарова показала, что руководство Армении и Азербайджана, и что намного более важно, общества двух стран не готовы к компромиссам и уступкам. И если президент Азербайджана Ильхам Алиев использовал экстрадицию, как повод для подъема собственной популярности внутри страны накануне выборов 2013 года, то президент Армении попытался извлечь максимальную выгоду для себя, заявив о приостановлении отношений с Венгрией. Кстати, и в этом случае про предвыборный контекст забывать не стоит. Как и Ильхаму Алиеву, Сержу Саркисяну предстоит участвовать в президентской кампании в будущем году. Таким образом, предвыборные резоны и «патриотическая легитимация» для руководителей двух стран оказалась в критической ситуации намного важнее, чем мирный процесс. Само же примирение рассматривается,как дело, навязываемое извне. С которым приходится иметь дело по мере необходимости, но без особого рвения. Отсюда и стремление использовать разные поводя для торпедирования или, как минимум, замедления мирного процесса. Но самое главное, их действия не получили какой-то жесткой критики со стороны общественности. В лучшем случае- молчание, в худшем- благожелательный нейтралитет. И это притом, что азербайджанское руководство могло хотя бы внешне сохранить следование международным правовым нормам. Сафарова могли не помиловать сразу же по его прилету в Баку, а хотя бы создать видимость дискуссии о его будущих перспективах в формате парламента или серии «круглых столов» с участием первых лиц государства.
Во-вторых, «дело Сафарова» ставит немало вопросов и перед странами, вовлеченными в урегулирование конфликта. Понятное дело, Вашингтон, Москва или Париж не смогут помирить Баку и Ереван без их на то консолидированного согласия. Однако понять важные особенности самого мирного процесса американские, российские и европейские дипломаты могут. Выстраивая линию мирного урегулирования необходимо, во-первых, серьезно проанализировать и осознать причины неудавшегося до сих пор миротворчества, во-вторых, выработать реалистическую парадигму действий. Следует понимать, что переговорный процесс ведется не с «воображаемым сообществом», а с представителями вполне определенного социума, имеющего свои исторические, культурные особенности и ценности. Каждое противостояние уникально. В случае с Нагорным Карабахом мы можем говорить о противостоянии двух этнонационалистических проектов, для которых спорная территория- это центральный элемент их политической идентичности. Их «Иерусалим», если проводить какие-то параллели с палестино-израильской ситуацией.
Исходя из принципа «реалистического миротворчества», необходимо при выстраивании переговорного процесса отказаться от принципа «одноактного урегулирования», который может завершиться подписанием «вечного мира». Увы, но такие устремления были характерны для всех совместных деклараций президентов стран-посредников по принципам мирного урегулирования на саммитах «Большой восьмерки» в Аквиле, Ускоке и Довиле. Но ни в одном из постсоветских конфликтов невозможно в одном пакете без длительного согласования разрешить все вопросы (статус, беженцы, реституция имущества). Необходимо пошаговое продвижение к компромиссу, при котором каждый новый шаг будет укреплять взаимное доверие сторон. Таким образом, постсоветские конфликты могут быть разрешены на поэтапной основе с акцентом на разрешении текущих вопросов безопасности, гуманитарных проблем. В этом плане подписание промежуточных юридически обязывающих актов и даже деклараций представляется намного более важным, чем работа над подготовкой всеобъемлющего (но не выполнимого и не работающего) документа.
Важнейшей составляющей продвижения к миру помимо реализма следует считать прагматизм. В переговорном процессе должно быть, как можно меньше абстракций, оторванных от интересов конкретных людей (как политиков, так и рядовых граждан, как признанных образований, так и де-факто государств, официальный статус здесь вторичен). Как замечали российские политологи Андрей Кортунов и Сергей Лунев (применительно к демократии), «люди начнут верить в демократию, если убеждены в ее практической полезности для себя лично. В противном случае демократия в глазах людей теряет всякую ценность, и с ней при случае расстанутся также легко, как в свое время распростились с социализмом и СССР» . То же самое с полным основанием можно отнести и к конфликтному урегулированию. Только тогда, когда урегулирование конфликта окажется выгоднее для бизнеса участников противостояния, для их социального и политического статуса, чем продолжение вражды (включая и вооруженную борьбу), прогресс в мирном процесса станет реальностью. Иначе Баку и Ереван будут искать любое новое «дело Сафарова». Даже, если таковое надо будет изобретать! В этой связи бесперспективно предлагать для армянской стороны освобождение оккупированных районов вокруг Карабаха, мотивируя это «приобщением Армении к Европе и европейским принципам». Для де-факто властей в непризнанной Нагорно-Карабахской Республики «европейские ценности» не являются понятными и осязаемыми. В той же степени необходимо отдавать себе отчет в том, что североатлантическая интеграция для кавказских республик не является приобщением этих стран к нормам и институтам демократии, а новым военно-политическим ресурсом для решения проблем «территориальной целостности». В этой связи переговоры должны быть переведены из плоскости дискуссий о ценностях в плоскость интересов и прагматики. Крайне важна в продвижении к миру «десакрализация конфликтов», то есть отказ от превращения конфликта в ключевой инструмент для легитимации власти.
Вопросы статуса не могут рассматриваться, как основополагающие. Проблема, какой флаг должен висеть над той или иной столицей должен уступить место обсуждению гуманитарных и социальных проблем спорной территории. Определение статуса может затянуться на годы, а рядовые граждане территории с неопределенным статусом должны иметь возможность для реализации и защиты своих прав (как прав человека, так и гражданских прав). Только реабилитированная экономически и социально территория (де-юре или де-факто существующая) может ответственно подходить к переговорному процессу. В этой связи приоритетным должно стать исключение силы из процесса урегулирования. Формула «возможно все кроме войны» могла бы стать квинтэссенцией переговоров.
Важная проблема конфликтного урегулирования - внешнее вмешательство. В этой связи необходимо отказаться от господствующего сегодня представления о том, что международный формат урегулирования всегда лучше эксклюзивного. Несмотря на то, что нагорно-карабахский конфликт практически изначально попал в фокус ОБСЕ (Минской группы), а в молдавско-приднестровском конфликте было 2 страны-гаранта (РФ и Украина) в своем разрешении они не продвинулись дальше, чем грузино-абхазский или грузино-осетинский (в которых Россия долгие годы была эксклюзивным миротворцем). Таким образом, проблема заключается не в многостороннем или одностороннем миротворчестве. Основная проблема- согласованность действий внешних игроков. Если США и РФ действовали вместе в Нагорном Карабахе, то это позволило сохранить конфликт хотя бы в нынешнем его виде, не дав перерасти ему в возобновление военных действий, которые были в Южной Осетии в 2008 году.
И, наконец, последнее (по порядку, но не по важности) предложение. Переговорный процесс не должен иметь заранее определенного и запланированного результата. Предопределение статуса (на основе территориальной целостности или же напротив самоопределения) не может считаться продуктивным. Очевидно, что разговор о будущем Нагорного Карабаха не может произойти без учета всех реалий, которые имели место в последние два десятилетия. Простого возвращения спорных территорий к тем государствам, к которым они формально «приписаны» не может произойти по определению (поскольку целостность ныне новых независимых государства была сформирована и гарантирована во времена СССР). В то же самое время процесс этнического самоопределения не может продолжаться до бесконечности. Таким образом, вопрос о разрешении конфликта должен быть завершающим итогом серии согласований интересов и даже политических торгов, их финалом. Он не может вручаться противоборствующим сторонам заранее, убивая у них любую мотивацию для дальнейших переговоров.
Автор - Сергей Маркедонов, приглашенный научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, Вашингтон, США