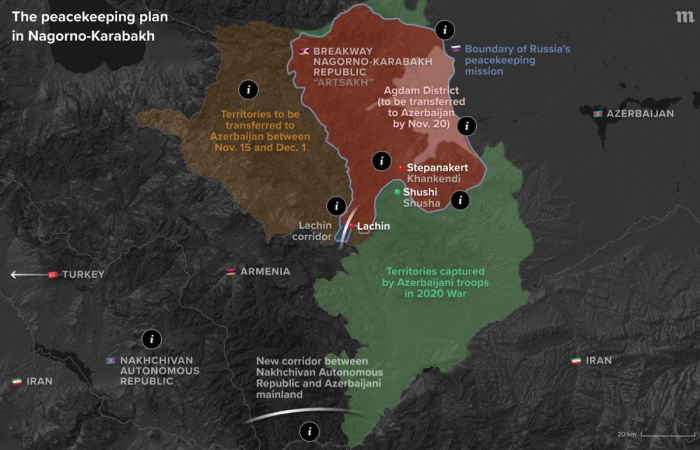Развиваясь на пути становления поистине европейской страной, Грузия бросает этим самым вызов России, что может привести к тому, что население России подвергнет сомнению сложившуюся модель управления в их собственной стране, - считает Джордж Мчедлишвили.
Предыстория: Неудачный старт
Отношения между Россией и Грузией начали портиться еще до официального распада Советского Союза в конце 1991 года. Причинами были заявленный Грузией курс на независимость от Советского Союза, ее нежелание вступать в возглавляемое Москвой Содружество Независимых Государств (СНГ) и быстрые темпы начала и углубления отношений с западными странами после того, как Эдуард Шеварднадзе возглавил страну в 1992 году. Эти события подтолкнули Тбилиси к западным столицам, но и также сделали страну постоянной мишенью гнева Москвы.
Несмотря на волокиту с демократией и либеральными рыночными реформами внутри страны во время первого срока правления Ельцина, внешняя позиция России в отношении бывших советских республик оставалась фундаментально империалистической. Снисходительные замечания о независимости этих государств зачастую звучали даже от относительно либеральных политиков. Такая позиция имела очень конкретные политические последствия, которые приводили к попыткам ослабить любую страну, которая не желала идти по линии Москвы, раздувая пламя сепаратизма. По чисто прагматичным причинам подход к странам Балтии был несколько более дифференцированным.
Однако, когда дело доходит до Грузии, наблюдается определенный образ действий [со стороны России], который преследуется с начала 1990-х годов и еще более усилился в середине 2000-х годов, когда стало ясно, что реформы, инициированные президентом Михаилом Саакашвили и его командой, принесли свои плоды и вывели страну из эпохи коррупции и неэффективного госуправления покойного Шеварднадзе.
Причины августовской войны
Поэтому причины августовской войны 2008 года безошибочно прослеживаются в решительном прозападном курсе Грузии и в желании присоединиться к европейским и евро-атлантическим институтам. Тбилиси рассматривает интеграцию в западные органы как врата к политическому и экономическому прогрессу и гарантию долгосрочной безопасности страны. Хотя Дмитрий Медведев, в то время президент России, и другие представители российского руководства утверждали, что они защищали "спящий Цхинвали" от варварского нападения кровожадного Саакашвили и его западных сторонников, спустя несколько лет он [Медведев] почти признал реальные причины российской агрессии в одном из интервью: "Если бы мы проморгали, то в 2008 году у нас был бы совершенно другой геополитический ландшафт и ряд важных стран, которые Североатлантический альянс пытался затянуть в свои ряды несколько лет назад были бы уже там".
В результате пятидневной войны Москва оккупировала отколовшиеся территории Абхазии и Южной Осетии и признала их независимыми государствами. В ответ, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией, а также покинула ряды СНГ. Единственным форматом взаимодействия стали Женевские международные дискуссии - под совместным председательством ОБСЕ, ЕС и ООН по последствиям войны 2008 года.
С экономическими успехами России в 2000-е годы на фоне резкого роста цен на углеводороды, политика восстановления сферы влияния стала более напористой, что привело к идее создания Евразийского экономического союза как противовеса Европейскому союзу. Грандиозные планы России по политическому восстановлению Советского Союза терпят неудачу, хотя бы потому, что содержание такого политического союза является очень дорогостоящим мероприятием. Цели ограничены влиянием на постсоветском пространстве, в соответствии с которым страны будут проводить внешнюю политику, принимая во внимание в первую очередь интересы Москвы.
В этих условиях отношения между Москвой и Тбилиси обречены на то, чтобы оставаться напряженными до тех пор, пока Грузия остается прозападной.
Одна Россия, два подхода
Примером может служить динамика отношений между двумя странами после войны 2008 года. До 2012 года под руководством Михаила Саакашвили и его "Единого национального движения" уже и так плохие отношения усугублялись подстрекательской риторики грузинского руководства, которая исключала возможность любых контактов. Даже культурные связи часто назывались коллаборационизмом. В последние годы правления Саакашвили, когда авторитарные тенденции стали более выраженными, Россия все чаще использовалась в качестве инструмента для мобилизации поддержки тогдашнего руководства.
Одним из предвыборных обещаний нынешнего правительства "Грузинской мечты", которое пришло к власти в результате неожиданной победы на парламентских выборах 2012 года, было нормализация связей с Россией. Риторика была смягчена, и был налажен прямой канал связи между специальным посланником премьер-министра Грузии и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Обоснование "Грузинской мечты" заключается в том, что менее агрессивный подход к России поможет избежать ожесточенной реакции, которая может варьироваться от еще одного военного вмешательства до давления на этнических грузин, проживающих в Москве.
Сама Россия также может быть заинтересована в улучшений отношений с Тбилиси. Несмотря на сильное желание наказать Грузию за ее прозападные устремления, Россия также должна заботиться о своем международном имидже, особенно среди постсоветских государств, которые она хочет "вернуть". Образ тирана, который пойдет на все, чтобы страна не смогла реализовать свою внешнюю политику - это не тот образ, который Москва хочет развивать в наши дни. Скорее, она пытается обратиться к сердцам и умам населения постсоветских стран, представляя себя их старшим партнером, которая будет уважать традиции и культурную самобытность - это очень важный вопрос для многих.
"Оттепель" привела к восстановлению культурных и торговых связей между двумя странами. Очень важно и символично, что Россия возобновила импорт грузинского вина, который она прекратила в 2006 году по чисто политическим причинам.
Но ни менее подстрекательная риторика грузинского руководства, ни попытки России использовать "прянник", а не только "кнут", не смогли изменить основную динамику. Различия остаются несовместимыми - будь то статус оккупированных территорий, решение о признании которых нынешнее руководство России вряд ли изменит, или процесс интеграции Грузии в ЕС и НАТО, который Россия всегда будет рассматривать как серьезную угрозу.
По этой причине Россия оказывает давление на Грузию несколькими способами. Российские войска участвуют в периодическом процессе "установления границы", размещая демаркационные указатели вдоль оккупационной линии, иногда прибегая к дополнительному "захвату земель", что привело к оккупации еще на несколько сотен метров вглубь страны контролируемых Тбилиси территорий. Кроме того, де-факто власти в Абхазии и Южной Осетии осложняют с каждым днем жизнь этнических грузин, которые проживают в районах, подконтрольных сепаратистам за счет очень дискриминационных положений о гражданстве и языковых программ в школах. В конце июля прокремлевские лидеры в оккупированной Южной Осетии заявили, что закрывают оставшиеся грузинские школы. Та же самая политика проводится в населенном грузинами Гальском районе Абхазии с 2015 года. Вся эта политика очень раздражает грузинских властей, поскольку они демонстрируют жестокий подход Москвы к Тбилиси.
Еще один факт красноречиво свидетельствующий о российском жестком подходе - продолжающийся мятеж на Северном Кавказе, - южном регионе Российской Федерации, который граничит с Грузией, - что включает в себя элементы «Аль-Каиды», а с конца 2014 года - Исламское государство (или ДА́ИШ). Борьбу с мятежниками на Северном Кавказе можно было бы вести гораздо эффективнее, если бы имело место приграничное сотрудничество между Россией и Грузией. Но Россия предпочитает разрушать Грузию, даже в ущерб собственной безопасности.
Причины российской одержимости
Причины, по которым Россия так зациклилась на сохранении своей сферы влияния на постсоветском пространстве, в основном являются внутренними. Стабильность клептократического режима Путина основывается на идеологической конфронтации с Западом, которая опирается на повествование об "уникальности" православной цивилизации. Эту политику лучше всего демонстрирует парадигма "Русский мир", которая пытается охватить все постсоветские страны, заявляя, что западные "декадентские", светские (читайте "без духовности") культурные традиции пагубны для "нашей цивилизации". Грузия, Украина и Молдова, в силу православной конфессии, которую они разделяют с Россией, безусловно, принадлежат к "Русскому миру". И, согласно такому повествованию, от вестернизации эти страны могут только проиграть.
Поэтому, если какая-либо из этих стран выберет западный путь политических и экономических преобразований и преуспеет, все это повествование распадется. Это то, чего действительно боится российский режим, что успех этих стран может побудить российское население подвергнуть сомнению достоинства собственной модели управления. Именно по этой причине Россия настолько одержима стремлением сорвать "вестернизирующиеся" страны с курса становления действительно европейскими. Поскольку Грузия продвинулась больше всего в этом направлении, российская отрицательная реакция неизбежна.
Георгий Мчедлишвили, доцент Школы социальных наук Международного черноморского университета в Тбилиси. Данный обзор был подготовлен им специально для commonspace.eu
Фото: Российские войска возле грузинского города Гори в 2008 году (фото любезно предоставлено BBC)